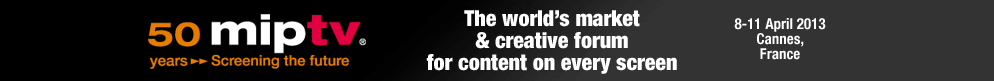
Интервью
Николай Лебедев: "Никогда не высчитывал конъюнктуры"
Режиссер "Легенды №17" о феноменальном кассовом успехе фильма, фокус-группах и утраченных традициях
Николай Лебедев
В связи с феноменальным кассовым успехом блокбастера "Легенда №17" (генеральные продюсеры Никита Михалков, Леонид Верещагин, Антон Златопольский), который не только сделал рекордный бокс-офис, но и умудрился не получить почти ни одной отрицательной рецензии в профессиональной прессе, Марина Латышева встретилась с режиссером Николаем Лебедевым и узнала его мнение о фокус-группах, об утраченных традициях и о том, почему конъюнктура - это когда плохо, а когда на пять баллов - это просто хорошее кино.
Впервые фильм был показан на кинорынке в Москве – для профессионалов индустрии. Как реагировали владельцы кинотеатров?
Я видел их зрительскую реакцию, она была абсолютно эмоциональной, я видел, как люди плакали, сняв очки. Понятно было, что картина им понравилась, ну а дальше уже включился счетчик. Я знаю, что поначалу речь шла о тысяче копий, по итогам кинорынка это число увеличилось до 1500, то есть на треть. Это серьезно.
Над фильмом работала студия "ТРИТЭ" при поддержке ВГТРК и Фонда кино – вы связываете этот факт с госзаказом на патриотическое кино?
Я считаю, что бывает хорошее кино или плохое, искреннее или неискреннее. Я не высчитывал никогда подобной конъюнктуры просто потому, что мне это было бы скучно. Я делал "Звезду" в тот момент, когда это была самая немодная тема, и когда я ее делал, мне говорили – дословно цитирую: что после этой картины мне никогда не дадут снимать кино. Но когда фильм вышел и стал успешным, меня тут же назвали конъюнктурщиком. А я не понимал, о чем речь, и сейчас такая же ситуация. Сразу после выхода "Волкодава из рода Серых Псов", в 2007 году, Леонид Верещагин дал мне сценарий под названием "Харламов". Это был хороший, подробный сценарий телевизионного байопика, но – явно не мой материал, и я отказался. Прошло несколько лет, и Верещагин, с которым мы все это время обговаривали возможности совместной работы, предложил прочесть еще один сценарий о Харламове. Этот вариант был гораздо лучше, уже как-то сложен кинематографически, но все равно байопик – родился, учился, женился...
В тот момент, в 2010-м, я был без работы уже два года, развивал проекты, они не срастались, в общем, мне позарез нужна была работа, но я прочитал сценарий и сказал: "Спасибо, нет!" После чего он мне тут же предложил прочесть еще один вариант, написанный другими сценаристами. Клянусь, я думал, что Верещагин шутит! Оказалось, нет. Но я взялся читать новый вариант лишь из огромного уважения к Леониду Эмильевичу, понимая, что не возьмусь, не мой это материал. И влюбился в историю, рассказанную Михаилом Местецким и Николаем Куликовым, мне стало так интересно, я понял, что буду снимать. Так что я не думал об идеологии или патриотизме, просто нашел сюжет, который меня взволновал до слез.
Главный герой для вас Тарасов?
В первоначальном сценарии было именно так, когда мы с Местецким и Куликовым только начинали работать. Харламов был практически второстепенным персонажем (хотя сценарий и назывался его именем). Образ Тарасова произвел на меня сильнейшее впечатление – наверное, потому что напомнил мне собственного отца. А Харламов – мое альтер эго. Я никогда особо не занимался спортом, никогда даже не смотрел хоккейные матчи, до фильма. Но история человека, который делает первые шаги, пытается реализовать себя, нащупать свое призвание, понять, прав он в этом ощущении призвания или нет, и прийти к нему, несмотря на невзгоды, – это мне очень близко. Это всем очень близко.
Бюджет фильма позволил вам реализовать все, что вы задумали?
Я знаю, что производственный бюджет – $10 млн; были использованы государственные средства. Впрочем, я не продюсер, я был продюсером на "Фонограмме страсти" и тогда же сказал себе: "Хватит. Больше никогда!" Так что это не моя епархия. Но мне иногда приходилось доказывать продюсерам, что вот это и это мне надо. Я говорил, что мне нужна канатная дорога, чтобы камера долетела до шайбы, – помните в сцене матча в Канаде, когда камера из-под купола летит к шайбе в самом начале игры? Мы уж и так и сяк пытались, и на компьютере пробовали сгенерировать – все не то, нужна была дорогущая канатная дорога для камеры, фактически для одного кадра.
Или была сцена, ради которой надо было вернуться в Белоруссию зимой и отснять ее, в эпизоде, когда Харламов с Гусевым на руках перебираются по тросу между заводскими трубами. Мы пытались найти подобный объект поблизости, в Москве и Подмосковье, мне показывали Завод Лихачева, задворки каких-то производств, но все это выглядело неубедительно – ведь для эпизода мне нужен был целый мир. И ради одного кадра – этих труб, пустоши, которая вокруг, – мы поехали на окраину Минска и сняли этот эпизод. Это были большие деньги, но это дало на экране образ.
То есть продюсеры соглашались с вашими доводами?
Мы старались найти самое точное решение – и с творческой, и с финансовой точки зрения. Спорили, договаривались. К примеру, нам пришлось снимать на разных спортивных аренах, это очень дорогое удовольствие. Но ведь надо было показать, как меняется судьба героя, как с каждым новым стадионом наступает и новая ступень в его развитии. Потому мы меняли стадионы без конца. А что такое новый стадион? Там подо льдом реклама, ее нужно вытапливать, заливать лед заново, снимать щиты, бортики. Верещагин спрашивал, дескать, действительно ли зрителю не все равно, и я отвечал, что уверен в этом. Наши художники по костюмам Сергей Стручев и Маша Юреско делали удивительные вещи, перетряхнули всю страну и нашли коньки старого образца. Кататься на них невозможно – нынешние коньки отличаются от прежних примерно так, как сегодняшняя машина-автомат от ручного управления, хоккеисты несколько недель учились, артисты – несколько месяцев. Студия тратила на все это силы и деньги. Тут реально очень большой и честный труд огромного количества людей, который, слава богу, не заметен. Потому что если мы смотрим и говорим "ой, какая пряжка, нашли же!..", то что это за кино.
Как родственники ваших героев реагировали на расхождения сюжета с реальностью?
Поначалу они настороженно отнеслись к проекту. И родственники, и хоккеисты, которые в том матче участвовали. Потому что был у них негативный опыт. Мы встретились, потом, мне кажется, они увидели, что нет у нас желания просто срубить какую-нибудь киношку по принципу "кто тут у нас известный". Мы подружились с Сашей Харламовым, он меня представил Татьяне Борисовне, сестре Валерия. Я показал им исторические фотографии, которыми были увешаны стены моего кабинета, показал материалы. И мы как-то сошлись. Благодаря ей я познакомился с Борисом Михайловым – он приходил в студию, встречался с актерами, очень по-доброму отнесся к проекту, сказал, что, дескать, "консультантом я не буду, но если надо – звони". Я звонил, и он мне здорово помог. Он приезжал на премьеру фильма.
Пришел и Владислав Третьяк, который до этого (не знаю, выдам я тайну или нет), прочитав сценарий, сказал, что не хочет, чтобы его имя было в проекте. Я не присутствовал при этом разговоре, но, со слов продюсера, он сказал: "Лучше заменить имена, потому что история изменена, и я не хочу, чтобы меня упоминали". Но он побывал на премьере, и я знаю, что его фильм тронул. Конечно, для меня эта реакция очень дорога.
Вы им заранее фильм не показывали?
Нет. Они все смотрели его на премьере.
С фокус-группами тестировали кино на рабочей стадии?
Когда картина только складывалась, мы проверяли ее на своих маленьких фокус-группах – приходили мои друзья, смотрели, а потом говорили, что им скучно или непонятно. Фокус-группы в традиционном понимании были, но исключительно в целях отшлифовать готовый продукт. Корректировать фильм, исходя из интересов аудитории, мы по большому счету не собирались.
В Голливуде делают картину полностью, озвучивают ее, печатают копии и показывают готовый материал фокус-группам, после чего еще могут здорово почистить фильм, даже что-то переснимают. В нашей стране по финансовым соображениям такую чистку не проведешь. Мы показываем рабочий вариант, и всегда существует зазор – еще черновая музыка и звук, изображение без спецэффектов или лишь с частью спецэффектов. Фокус-группе можно сказать, к примеру, что тут стадион будет заполнен полностью, а сейчас он не заполнен, но это все равно эмоционально "сажает" зрительское восприятие. По себе знаю: посмотрев чужой материал, я не могу понять, какой будет картина в окончательном варианте. Так что в данном случае мы просто проверяли, что все, что задумано, – оно работает. Тут люди плачут, тут смеются.
Прокатные итоги порадовали – $16,5 млн за два уик-энда.
Мне кажется, это кино и рассчитано на большую аудиторию. Я не уверен, что сам пошел бы на фильм о спорте как зритель. То есть я уверен, что не пошел бы. Но если бы услышал от других положительные отзывы, то, может быть, и сходил. Знаю точно, что "Легенду №17" надо смотреть на большом экране, вижу, как зрители не могут оторваться от этого зрелища.
Меня радует то, что зрители откликнулись на картину, что им она интересна. И очень огорчает, что она уже есть в сети, – люди посмотрят тряпичную копию и не получат и сотой доли того, что они могли бы получить, придя в кинозал. Я знаю, какая грандиозная разница между просмотром кино дома и в кинотеатре, от фильма совсем другие впечатления. А "Легенда №17" – фильм зрелищный, он создан для того, чтобы производить мощную эмоцию, генерировать ее в зал.
Проблема в том, что зритель, может быть, и пошел бы, но не везде есть кинотеатры.
Надеюсь, хотя бы там, где есть кинотеатры, люди еще придут. А ситуация с кинотеатрами – это, конечно, беда. Но проблема не только в этом. Мы всегда сравниваем себя с Америкой или с той же Францией – и делаем это очень наивно. Потому что у нас ведь, в отличие от них, в кино в свое время все было разрушено – прокат, производство, буквально все начиналось заново. Потому, когда мы говорим "кинематографическая традиция", "шедевры отечественного кино", бла-бла-бла, – да, это так. Эмпирически. Но в реальности у нас совершенно новые люди создавали киноиндустрию с нуля в начале 2000-х. Сейчас многие уже нарастили мощные профессиональные мускулы. Когда я снимал "Волкодава", это был ад. С той же самой группой я не смог бы снять фильм о Харламове, и наоборот, если бы с группой, работавшей на "Легенде №17", я снимал бы "Волкодава", то, боже мой, какое это было бы кино!
Точно так же у нас была разрушена и аудитория. Помню, во время работы над "Поклонником" тринадцатилетняя Марина Черепухина с горящими глазами рассказывала про "Титаник", и я вдруг понял – она впервые в жизни оказалась в кинотеатре. Притом что девочка из семьи, в которой знают и любят кино. У нас была разрушена культура кинопросмотра, сейчас взамен начинает зарождаться некая новая традиция. Те люди, которые раньше ходили в кинотеатры, – их вернуть сложно. Шаг за шагом, думаю, если будет правильная госполитика, можно будет привлечь в кино новую публику. И хотя бы отчасти вернуть старую, которая осаждала кинотеатры в 70-х и 80-х. Не обманывать людей, не зазывать всех подряд на "кино для всех", которое на проверку оказывается "ни для кого", а привлекать конкретную аудиторию на тот конкретный фильм, который сделан именно для нее. Зрители придут в кинотеатры и посмотрят свой фильм, и в следующий раз они поверят анонсу и снова пойдут на свою картину, не на чужую, ту, на которую их обманом затянули рекламой.
Tweet Share on Facebook
Крис Хемсворт: «В 70-е на «Формуле-1» все было проникнуто сексом»
27.08.13 13:50Оливия Манн: «По крайней мере, никто не умер!»
29.07.13 20:40Марианна Слот: «Берлин и Венеция - довольно бесполезные фестивали»
16.07.13 20:10Алексей Учитель: "Фонд Кино должен заострить работу на больших проектах"
20.06.13 17:30Александр Акопов: "Мы говорили, что приведем лучшие сериалы легально, и мы это сделали"
20.06.13 16:40
